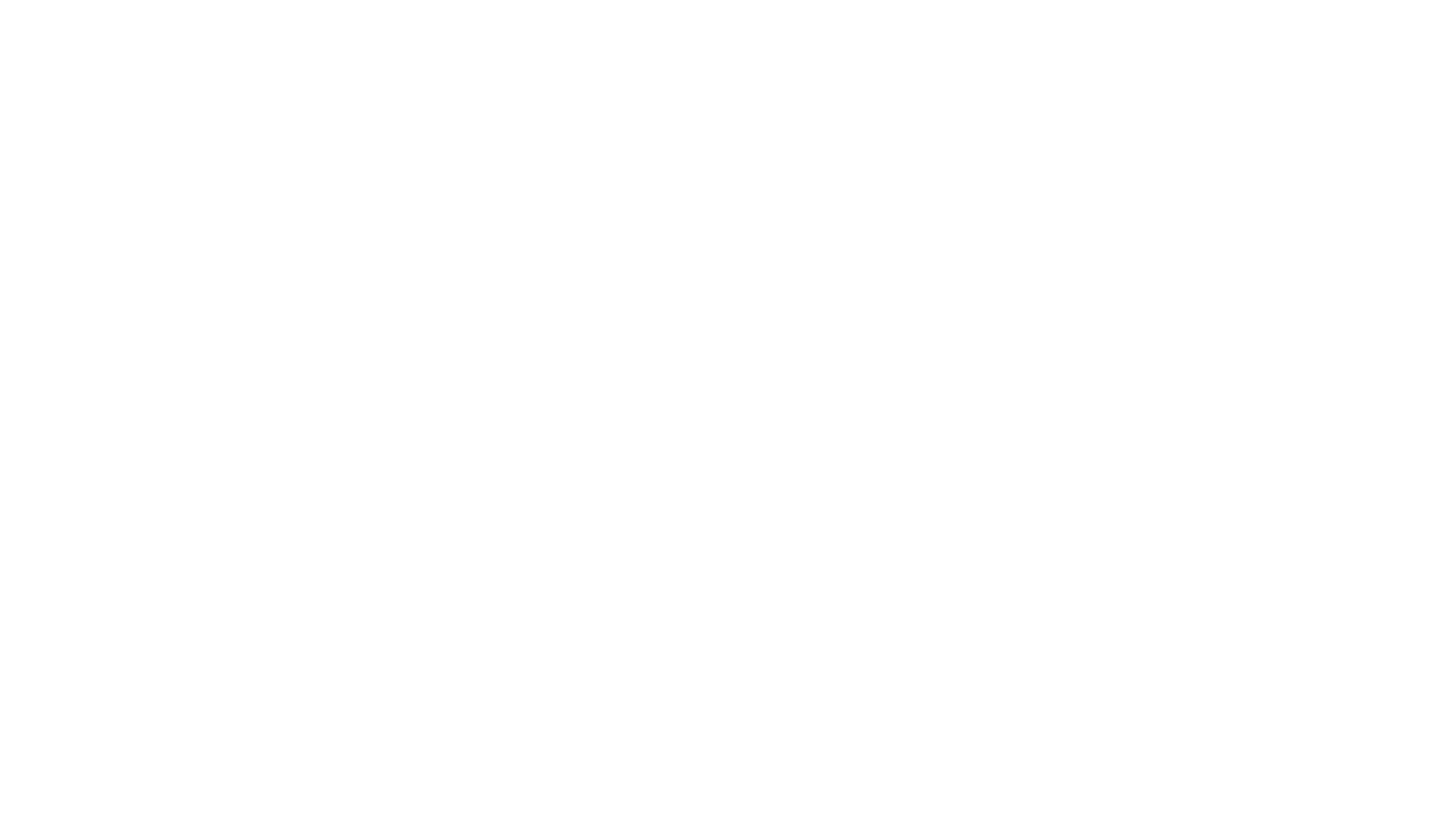Отрывок из новой книги
Ольги Седаковой
Отрывок из новой книги
Ольги Седаковой
PV
С разрешения издательства «Благочестие», выпустивших в свет книгу Ольги Седаковой «Мариины слезы. Комментарии к православному богослужению. Поэтика литургических песнопений», публикуем отрывок из книги — вступительные заметки автора.
Книга продается у нас на Покровке, 27.
Книга продается у нас на Покровке, 27.
ольга седакова
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
Мариины слезы. Комментарии к православному богослужению. Поэтика литургических песнопений
Мне много лет хотелось написать что-то вроде введения к поэтике церковнославянских литургических песнопений.
Каждому, кто знаком с православным обиходом, известна странная красота других слов и других ритмов, которые мы слышим за вечерней или утреней, на отпевании или во время венчания. Других, чем обыденная речь, – и других, чем у любимых поэтов. Соединения этих слов кажутся нерушимыми, а каждое слово само по себе – выходящим далеко за пределы собственного «значения», куда-то в неистощимый смысл. Свете тихий… честнейшую херувим… и жизнь безконечная… покаяния двери отверзи… ветия многовещанныя… не отврати лица Твоего… Эти слова и соединения слов обладают необычайной проникающей силой. Кажется, что их воспринимает не слух, а вся «чувств простая пятерица». Они не то что запоминаются, а впитываются в наш телесный и душевный состав, незаметно изменяя его. Тропари, стихиры, ирмосы, кондаки, икосы, светильны, степенны… догматики, задостойники, крестобогородичны, хвалитны, изобразительны… самогласны, подобны, самоподобны… Сами именования разных видов этих кратких песнопений звучат сказочно.
Каждому, кто знаком с православным обиходом, известна странная красота других слов и других ритмов, которые мы слышим за вечерней или утреней, на отпевании или во время венчания. Других, чем обыденная речь, – и других, чем у любимых поэтов. Соединения этих слов кажутся нерушимыми, а каждое слово само по себе – выходящим далеко за пределы собственного «значения», куда-то в неистощимый смысл. Свете тихий… честнейшую херувим… и жизнь безконечная… покаяния двери отверзи… ветия многовещанныя… не отврати лица Твоего… Эти слова и соединения слов обладают необычайной проникающей силой. Кажется, что их воспринимает не слух, а вся «чувств простая пятерица». Они не то что запоминаются, а впитываются в наш телесный и душевный состав, незаметно изменяя его. Тропари, стихиры, ирмосы, кондаки, икосы, светильны, степенны… догматики, задостойники, крестобогородичны, хвалитны, изобразительны… самогласны, подобны, самоподобны… Сами именования разных видов этих кратких песнопений звучат сказочно.
Соединения этих слов кажутся нерушимыми, а каждое слово само по себе – выходящим далеко за пределы собственного «значения», куда-то в неистощимый смысл.
Вещь, как будто лежащая на поверхности – и вместе с тем мало осознанная: богослужение и домашняя молитва – единственное пространство в жизни современного человека, где он самым прямым образом сообщается с древностью. Он слышит и повторяет тексты, созданные полторы тысячи лет назад (большая часть литургических песнопений написана раньше IX – XI века), – и повторяет их «от себя лично». Эти песнопения и молитвы создали люди, не только говорившие на другом языке, но думавшие иначе, располагавшие другой картиной мира, привыкшие к другим образам и уподоблениям, обладавшие другим, чем наше, представлением о красоте. Говоря на современном ученом языке, люди другого имажинария. Жизнь со- временного человека почти герметично замкнута в современном. Хорошо, если это современное заходит на два-три века назад (в той литературе, которую читают, музыке, которую слушают, живописи, которую смотрят). Круг актуального прошлого в современном сужается с ускорением. Уже то, что происходило три года назад, представляется «другой эпохой» и тем самым исключается из «нашей 9 актуальности». Представление о «современном» и «актуальном» все больше сближается с массмедийным представлением о ежедневных «новостях».
Впервые комментарии публиковались по мере написания в журнале «Нескучный сад» в 2013 году; в настоящем издании они расширены и пересмотрены. В книгу включены также размышления свящ. Алексия Агапова о звуковом строе двух праздничных стихир.
Вторую часть книги составляют поэтические переводы литургических текстов, сделанные Ольгой Седаковой.
Вторую часть книги составляют поэтические переводы литургических текстов, сделанные Ольгой Седаковой.
© Оксана Юшко | «Русский репортер»
Но еще важнее этого хронологического провинциализма (как назвал самоизоляцию «современности» С. С. Аверинцев) другая утрата. Вот забавная история. Когда-то моя знакомая рассказывала, как ее верующая мать читала вечером молитвы, готовясь к причастию.
– И подумай только, что она говорила! – сказала эта знакомая. – Не хочу, говорит, быть, как Иуда, а хочу, как разбойник!
Дело не в том, что рассказчица ничего не знала о «благоразумном разбойнике»: удивительным ей казалось само сравнение себя с каким-то разбойником и Иудой. Сравнение всерьез! Человек, которого называют «современным», всерьез не может сравнивать себя ни с кем. Он живет какой-то совсем отдельной жизнью. Скромная старушка почему-то думает о себе в связи с Иудой – и об Иуде в связи с собой. Это другая антропология. И на такой антропологии, имею- щей в виду необозримо широкие и сильные связи «меня» с людьми, жившими в разные времена и в разных странах, основаны и литургическая гимнография, и молитвословие.
– И подумай только, что она говорила! – сказала эта знакомая. – Не хочу, говорит, быть, как Иуда, а хочу, как разбойник!
Дело не в том, что рассказчица ничего не знала о «благоразумном разбойнике»: удивительным ей казалось само сравнение себя с каким-то разбойником и Иудой. Сравнение всерьез! Человек, которого называют «современным», всерьез не может сравнивать себя ни с кем. Он живет какой-то совсем отдельной жизнью. Скромная старушка почему-то думает о себе в связи с Иудой – и об Иуде в связи с собой. Это другая антропология. И на такой антропологии, имею- щей в виду необозримо широкие и сильные связи «меня» с людьми, жившими в разные времена и в разных странах, основаны и литургическая гимнография, и молитвословие.
И только у этого пространства нашей непосредственно проживаемой жизни – богослужения и молитвы – глубина измеряется тысячелетиями.
Вещи – ровесники наших литургических песнопений – относятся к области археологии; их собирают в музеи, их изучают исследователи, их посещают туристы. На них ставят знак: «охраняется государством» или «объект всемирного наследия ЮНЕСКО». И только у этого пространства нашей непосредственно проживаемой жизни – богослужения и молитвы – глубина измеряется тысячелетиями. И отношения с этой глубиной предполагаются не исследовательские, не музейные и не туристские. Вопреки распространенным представлениям, традицию и наследство («наше наследство») не получают автоматически и даром. Не только потому, что наследник «не готов» принять ее (а он всегда не готов) – но потому, что сама традиция, как это ни парадоксально, ведет прерывистое существование. Как заметил В. В. Бибихин, «она прервется, если каждый век перестанет восстанавливать то, что было добыто предыдущим». Не принимать готовое – а восстанавливать! Ничего из того, что добыто или получено в дар, не добыто и не получено навеки.
Без специального изучения церковнославянского языка литургические тексты остаются или вовсе непонятными – или понятыми превратно.
То, что слова литургической поэзии – слова из другого, на русский слух «почти понятного» языка, пожалуй, только усиливает их поэтическое воздействие. Но здесь нужно сказать со всей определенностью: без специального изучения церковнославянского языка литургические тексты остаются или вовсе непонятными – или понятыми превратно. Я это хорошо знаю по опыту преподавания церковнославянского языка. Кто переведет слово за слово хотя бы такой стих:
Предварившия утро яже о Марии, –
или первый стих акафиста:
Взбранной воеводе победительная?
Кто угадает, что
Изменил еси доброту зданий
означает: Ты искупил красоту творений?
Кто прочитает такой стих из стихиры Великой Пятницы:
Егда Силы зряху Тя Христе, яко прелестника
от беззаконных оклеветаема, –
Когда ангелы видели, как Тебя, Христос,
беззаконные (судьи) обвиняли во лжи?
или первый стих акафиста:
Взбранной воеводе победительная?
Кто угадает, что
Изменил еси доброту зданий
означает: Ты искупил красоту творений?
Кто прочитает такой стих из стихиры Великой Пятницы:
Егда Силы зряху Тя Христе, яко прелестника
от беззаконных оклеветаема, –
Когда ангелы видели, как Тебя, Христос,
беззаконные (судьи) обвиняли во лжи?
Вероятно, тот, кто может прочесть эти стихи на греческом. Современный русский язык ни своей грамматикой, ни семантической системой не открывает прямого пути к церковнославянскому.
Но и знание церковнославянского языка само по себе не гарантирует понимания. И в русском переводе, я уверена, эти тексты останутся непрозрачными. Литургические песнопения предполагают еще многое: и хорошо уложенное в памяти Св. Писание, и навык думать в богословских координатах, и быстрое узнавание символов. Так что современному человеку потребуется обширный и разносторонний комментарий к самому небольшому гимнографическому фрагменту.
Но и знание церковнославянского языка само по себе не гарантирует понимания. И в русском переводе, я уверена, эти тексты останутся непрозрачными. Литургические песнопения предполагают еще многое: и хорошо уложенное в памяти Св. Писание, и навык думать в богословских координатах, и быстрое узнавание символов. Так что современному человеку потребуется обширный и разносторонний комментарий к самому небольшому гимнографическому фрагменту.
Каждый из этих комментариев – своего рода приглашение открыть смысловое пространство молитвенной традиции: цельность ее символики, ее «умную» образность, ее мозаичную природу, ее работу с временем и памятью, с порядком и звучанием слов в стихе. В своей сумме комментарии оказываются замечательным введением в общую поэтику гимнографии, хранящую «ясную память о некоторой большей цельности, о повышенной связности всего со всем».
© Оксана Юшко | «Русский репортер»
В мой замысел не входило такое сплошное комментирование. Я думала сосредоточиться на одном: на собственно поэтической стороне этих песнопений. Византийская гимнография строится по другим законам, чем авторская поэзия Нового времени. Вот эти черты средневековой формы мне и хотелось описать.
В середине 90-х, когда я читала в МГУ курс общей поэтики, в него входили и маленькие главы о поэтике фольклора и поэтике литургических песнопений. И то, и другое – и устная народная поэзия, и гимнография – работают в мелопоэтических жанрах. Напев входит в самый текст этих словесных созданий. И этого момента нельзя забывать, рассуждая о фольклорной или литургической поэзии. Кроме того, распевы литургических песнопений, в отличие от фольклорных, семантизированы. Они (я имею в виду древние распевы, которые еще не записывались нотами) собираются из своего рода звуковых формул-иероглифов. К каждому тропарю или стихире дается указание: «глас третий» или «глас осьмый». И это определяет модус их содержания, поскольку за гласами закреплена устойчивая символика.
Разговор о гимнографии в моем курсе начинался с чтения тропаря Рождества Христова:
В середине 90-х, когда я читала в МГУ курс общей поэтики, в него входили и маленькие главы о поэтике фольклора и поэтике литургических песнопений. И то, и другое – и устная народная поэзия, и гимнография – работают в мелопоэтических жанрах. Напев входит в самый текст этих словесных созданий. И этого момента нельзя забывать, рассуждая о фольклорной или литургической поэзии. Кроме того, распевы литургических песнопений, в отличие от фольклорных, семантизированы. Они (я имею в виду древние распевы, которые еще не записывались нотами) собираются из своего рода звуковых формул-иероглифов. К каждому тропарю или стихире дается указание: «глас третий» или «глас осьмый». И это определяет модус их содержания, поскольку за гласами закреплена устойчивая символика.
Разговор о гимнографии в моем курсе начинался с чтения тропаря Рождества Христова:
Рождество Твое Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума:
в нем бо звездам служащии,
звездою учахуся,
Тебе кланятися Солнцу правды
и Тебе ведети с высоты Востока:
Господи, слава Тебе.
возсия мирови свет разума:
в нем бо звездам служащии,
звездою учахуся,
Тебе кланятися Солнцу правды
и Тебе ведети с высоты Востока:
Господи, слава Тебе.
Дословный перевод:
Рождение Твое, Христос Бог наш,
засветило для мира свет знания (понимания),
ведь при нем (т.е. при этом свете) те, кто почитал звезды,
от звезды научились
поклониться Тебе, Солнцу праведности (справедливости)
и познать, что Ты – Восход свыше.
засветило для мира свет знания (понимания),
ведь при нем (т.е. при этом свете) те, кто почитал звезды,
от звезды научились
поклониться Тебе, Солнцу праведности (справедливости)
и познать, что Ты – Восход свыше.
Это изощренное песнопение (состоящее, по существу, из одной фразы) целиком построено на развитии единственного мотива: мотива света. Других образов, кроме световых, этот тропарь не содержит. Свет (знания) – звезды – звезда – солнце – восход (заря). От сияния ночного звездного неба тропарь ведет к восходу утреннего солнца. Таков световой сюжет. В него вписаны волхвы – главные герои нашего тропаря.
Можно было бы сравнить такой принцип композиции с барочными построениями – как в поэзии испанских и итальянских маньеристов (Л. Гонгора, Дж. Марини, Дж. Гварини) или у Джона Донна и других английских «метафизиков». Так, Донн берет образ письма – и все события Страстей Христовых описывает в «рукописных» метафорах: кровь – чернила, орудия пыток – перо и т.д.
Но это сравнение двух поэтик довольно поверхностно. Несомненно, византийская гимнография, как и барочная поэзия, повышенно интеллектуальна, и этим отличается от позднейшей поэзии, о которой любят говорить, ссылаясь на Пушкина, что она должна быть «глуповата». Но интеллект или «ум» (это слово больше подходит к гимнографам) исполняет в этих поэтических мирах разное задание. В барочной поэзии речь идет об «остроумии» (т.е. быстром, живом уме сочинителя). Этот ум, wit, проявляется в выборе и изобретении метафор, в неожиданном проведении одной метафоры из строки в строку (принцип concetto), в сближении далековатостей (словами Г. Державина, в письме которого много барочного), в умении изобразить событие в неожиданном ракурсе (претерпевать Страсти – писать письмо), столкнуть совсем конкретное и материальное с совсем умозрительным.
Византийский гимнограф метафор обычно не изобретает, он работает с известными, устойчивыми символами. Но главное: задача его ума состоит не в том, чтобы «изобразить» нечто, «сместить» или «остранить» предмет, о котором идет речь, дать его неожиданную перспективу, – а в том, чтобы его истолковать. Точнее: перевести повествование о нем в другой – богословский – ярус значения. Один из путей такого истолкования – установление связей, и связей между очень далекими и внешне не схожими вещами. Так, Богородица сравнивается с ветхозаветной Неопалимой купиной: как некогда горящий и несгорающий куст, заговоривший с Моисеем, Она вместила всего невместимого Бога. История читается в обратной перспективе, из будущего, как его тени, пророческие прообразы.
Можно было бы сравнить такой принцип композиции с барочными построениями – как в поэзии испанских и итальянских маньеристов (Л. Гонгора, Дж. Марини, Дж. Гварини) или у Джона Донна и других английских «метафизиков». Так, Донн берет образ письма – и все события Страстей Христовых описывает в «рукописных» метафорах: кровь – чернила, орудия пыток – перо и т.д.
Но это сравнение двух поэтик довольно поверхностно. Несомненно, византийская гимнография, как и барочная поэзия, повышенно интеллектуальна, и этим отличается от позднейшей поэзии, о которой любят говорить, ссылаясь на Пушкина, что она должна быть «глуповата». Но интеллект или «ум» (это слово больше подходит к гимнографам) исполняет в этих поэтических мирах разное задание. В барочной поэзии речь идет об «остроумии» (т.е. быстром, живом уме сочинителя). Этот ум, wit, проявляется в выборе и изобретении метафор, в неожиданном проведении одной метафоры из строки в строку (принцип concetto), в сближении далековатостей (словами Г. Державина, в письме которого много барочного), в умении изобразить событие в неожиданном ракурсе (претерпевать Страсти – писать письмо), столкнуть совсем конкретное и материальное с совсем умозрительным.
Византийский гимнограф метафор обычно не изобретает, он работает с известными, устойчивыми символами. Но главное: задача его ума состоит не в том, чтобы «изобразить» нечто, «сместить» или «остранить» предмет, о котором идет речь, дать его неожиданную перспективу, – а в том, чтобы его истолковать. Точнее: перевести повествование о нем в другой – богословский – ярус значения. Один из путей такого истолкования – установление связей, и связей между очень далекими и внешне не схожими вещами. Так, Богородица сравнивается с ветхозаветной Неопалимой купиной: как некогда горящий и несгорающий куст, заговоривший с Моисеем, Она вместила всего невместимого Бога. История читается в обратной перспективе, из будущего, как его тени, пророческие прообразы.
Итак, что делает наш тропарь с евангельским рассказом о Рождестве? Он истолковывает его в перспективе света. Свет в нашем тропаре – невещественный свет знания, ума, разумения. И больше того: это сам Бог. Как известно, во всем Новом Завете можно найти только две фразы в форме дефиниции (в Ветхом Завете дефиниций вообще нет). И обе они – в Первом Послании ап. Иоанна. Первая дефиниция: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). И вторая: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). Это доктринальное отождествление Бога и Света утверждает Символ веры: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна. Так что каждое Богоявление, эпифания есть явление Света. Мы еще будем говорить о теме света в связи с Пасхой и Преображением. Особая сосредоточенность на свете, нетварном Фаворском свете, составляет своеобразие православной традиции: и ее богословия, и ее молитвенной практики.
И первое из евангельских явлений света – Богоявлений – Рождество.
О невещественном свете в нашем тропаре говорят и Солнце правды (праведности, справедливости), и Восход свыше. Это цитаты из малых Пророков: Малахии (4:2) и Захарии (3:8; образ этого таинственного «Восхода с высоты» в Новом Завете цитирует песнь Захарии (Лук. 1:78)). Оба эти образа имеют в виду Мессию.
И первое из евангельских явлений света – Богоявлений – Рождество.
О невещественном свете в нашем тропаре говорят и Солнце правды (праведности, справедливости), и Восход свыше. Это цитаты из малых Пророков: Малахии (4:2) и Захарии (3:8; образ этого таинственного «Восхода с высоты» в Новом Завете цитирует песнь Захарии (Лук. 1:78)). Оба эти образа имеют в виду Мессию.
Обратим внимание: какие разные типы мысли соединяет в своих световых образах этот тропарь! Свет разума, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως (то фос то тис гносеос) – это поздний язык, язык Пролога Евангелия от Иоанна и его Посланий, с несомненным присутствием философского субстрата. Солнце правды и Восход свыше – совсем другое: это древняя, дофилософская образность пророков. В иоанновом образе Света происходит осуществление гадательных пророчеств о Мессии: вот это и говорит тропарь своим «извитием словес» (заодно одаряя волхвов тем знанием, которого у них явно не было: они шли почтить великого царя; но они никак не могли узнать в Младенце Мессию и понять, что исполняются неведомые им пророчества; они пришли слишком издалека, оттуда, где об ожидании Мессии ничего не слышали).
Только звезду и звезды в этой световой цепочке мы можем понимать астрономически, как вещественные светила. Но если им поклоняются («служат») как божествам, то и это не совсем точно. Сам образ звезд, приводящих к солнцу, становится постоянным мотивом гимнографии. Звездой (а также зарей) именуется Богородица, звездами – великие святые, украшающие небо Церкви.
Весь анализ тропаря (который я не привожу здесь целиком) был посвящен уточнению одной из техник литургического песнопения: «извитию словес». В узком смысле «извитие словес» обычно относится к более простому приему, к соединению слов типа «страсти бесстрастные», «Невеста неневестная». Здесь же мы видим скорее извитие образа: единственного для всего тропаря образа света. А в кондаке Рождеству Христову мы найдем другой композиционный принцип, который можно назвать «извитием мысли».
Весь анализ тропаря (который я не привожу здесь целиком) был посвящен уточнению одной из техник литургического песнопения: «извитию словес». В узком смысле «извитие словес» обычно относится к более простому приему, к соединению слов типа «страсти бесстрастные», «Невеста неневестная». Здесь же мы видим скорее извитие образа: единственного для всего тропаря образа света. А в кондаке Рождеству Христову мы найдем другой композиционный принцип, который можно назвать «извитием мысли».
Дева днесь Пресущественнаго раждает,
и земля вертеп Неприступному приносит:
Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют:
нас бо ради родися Отроча младо,
превечный Бог.
и земля вертеп Неприступному приносит:
Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют:
нас бо ради родися Отроча младо,
превечный Бог.
Дословный перевод:
Девица сегодня рождает Того, кто существует до времени,
и земля приносит в дар пещеру Тому, к кому нельзя подступиться,
Ангелы с пастухами поют хвалы,
а волхвы со звездой совершают путь,
ибо ради нас родился
малое Дитя, предвечный Бог.
и земля приносит в дар пещеру Тому, к кому нельзя подступиться,
Ангелы с пастухами поют хвалы,
а волхвы со звездой совершают путь,
ибо ради нас родился
малое Дитя, предвечный Бог.
«Мысль» здесь одна: происходит нечто неимоверное, невозможное. Эту неимоверность выражает соединение несоединимых слов и понятий: Девица – рождает; рождает Того, кто и до рождения есть; сегодня впервые является – то, что было прежде времени… Венец этих совместившихся несовместимостей – последняя строка, именующая новорожденного Христа: «малое Дитя, предвечный Бог».
Волхвам в композиции кондака принадлежит другое место, чем в тропаре. В тропаре они свидетели того, что Свет явился всему миру, прежде жившему «во тьме и сени смертной»; в кондаке они участники чуда из чудес, Воплощения, нарушающего «вещества чин».
Волхвам в композиции кондака принадлежит другое место, чем в тропаре. В тропаре они свидетели того, что Свет явился всему миру, прежде жившему «во тьме и сени смертной»; в кондаке они участники чуда из чудес, Воплощения, нарушающего «вещества чин».
Мой замысел «когда-нибудь» написать введение в поэтику литургических песнопений по многим причинам остался бы неисполненным – если бы не неожиданное обстоятельство.
Мой замысел «когда-нибудь» написать введение в поэтику литургических песнопений по многим причинам остался бы неисполненным – если бы не неожиданное обстоятельство. Ко мне обратились из редакции журнала «Нескучный Сад» с предложением из номера в номер делать регулярные комментарии к тропарям, стихирам, молитвам по ходу богослужебного года. Я согласилась – с условием, чтобы комментарии, касающиеся самого праздника, места избранного текста в литургии, общего богословского толкования, делал тот, кто знает все это лучше меня. Эту работу взял на себя свящ. Федор Людоговский, прекрасный филолог и исследователь истории акафиста. Таким образом, каждый комментарий состоял из двух частей: общей, вводной, которую писал о. Федор, – и той, которую делала я под названием sub specie poeticae (c точки зрения поэтики). Каждый раз кроме моего приводились и переводы иеромонаха Амвросия (Тимрота), автора самых авторитетных к настоящему моменту переводов богослужебных текстов.
Работа оборвалась так же неожиданно, как началась: «Нескучный Сад» перестал выходить. В первоначальном виде наши журнальные комментарии можно найти в электронной версии «Нескучного Сада»
Работа оборвалась так же неожиданно, как началась: «Нескучный Сад» перестал выходить. В первоначальном виде наши журнальные комментарии можно найти в электронной версии «Нескучного Сада»
Для настоящего издания мы решили собрать мои комментарии и расположить их в том порядке, в каком они появлялись. Этот порядок – двойной: с одной стороны, он сообразуется с богослужебным календарем, с другой – из комментария в комментарий продолжается разговор о разных моментах поэтики литургических песнопений.
В общем ряду моих текстов читатель неожиданно встретит текст другого автора: свящ. Алексия Агапова, Стихиры Креста и Благовещения: тайна звука. Это одна из целого ряда его интереснейших работ, посвященных звуковому строю литургических песнопений. Текст о. Алексия компенсирует обещание говорить о звуковом строе гимнографии, которое я в ходе моих комментариев давала не раз, но так и не исполнила.
Повторю еще раз: все мои четырнадцать комментариев – не больше, чем фрагменты некогда задуманного систематического изложения поэтики.
Читатель, привыкший ожидать от анализа поэтики разбора формы в узком смысле: ритмики, звуковой организации текста, тропов, построений (типа параллелизма или хиазма), возможно, будет разочарован. Обо всем этом говорится очень немного. Может показаться, что комментируется скорее содержание тропарей и стихир. Но я понимаю поэтику прежде всего как организацию смысла: как наводится смысловой фокус, какие моменты смысла оказываются ключевыми, в каком ракурсе песнопение дает нам увидеть этот смысл (так тропарь, о котором мы говорили, дает Рождество в ракурсе света, а кондак – в ракурсе чуда). Иначе говоря, речь пойдет преимущественно о композиции, то есть о динамике, о делании смысла (собственно, ποίησις [пойесис]). Похожим образом поэтика понимается в классическом труде С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы».
В общем ряду моих текстов читатель неожиданно встретит текст другого автора: свящ. Алексия Агапова, Стихиры Креста и Благовещения: тайна звука. Это одна из целого ряда его интереснейших работ, посвященных звуковому строю литургических песнопений. Текст о. Алексия компенсирует обещание говорить о звуковом строе гимнографии, которое я в ходе моих комментариев давала не раз, но так и не исполнила.
Повторю еще раз: все мои четырнадцать комментариев – не больше, чем фрагменты некогда задуманного систематического изложения поэтики.
Читатель, привыкший ожидать от анализа поэтики разбора формы в узком смысле: ритмики, звуковой организации текста, тропов, построений (типа параллелизма или хиазма), возможно, будет разочарован. Обо всем этом говорится очень немного. Может показаться, что комментируется скорее содержание тропарей и стихир. Но я понимаю поэтику прежде всего как организацию смысла: как наводится смысловой фокус, какие моменты смысла оказываются ключевыми, в каком ракурсе песнопение дает нам увидеть этот смысл (так тропарь, о котором мы говорили, дает Рождество в ракурсе света, а кондак – в ракурсе чуда). Иначе говоря, речь пойдет преимущественно о композиции, то есть о динамике, о делании смысла (собственно, ποίησις [пойесис]). Похожим образом поэтика понимается в классическом труде С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы».
Каждая из четырнадцати главок этой книги названа первым стихом песнопения, о котором пойдет речь (или его первым колоном: этот термин предпочтительнее в исследованиях молитвословного стиха). Все они построены следующим образом:
1
Сначала даются три версии текста: греческий оригинал, его церковнославянский перевод и сделанный мной специально для этого анализа дословный перевод с церковнославянского на современный русский язык (случаи заметных расхождений славянского с греческим отмечаются).
Перевод может сопровождаться комментариями, аргументирующими выбор тех или других русских слов перевода и отмечающих цитаты и отсылки.
Перевод может сопровождаться комментариями, аргументирующими выбор тех или других русских слов перевода и отмечающих цитаты и отсылки.
2
Вслед за этим идет собственно комментарий к тексту sub specie poeticae.
Все переводы с церковнославянского и других языков, приведенные в книге, за исключением одного отмеченного случая, выполнены мной.
Вторая часть книги – или, если угодно, приложение – это небольшая подборка уже не дословных, а поэтических переводов литургических текстов.
Вторая часть книги – или, если угодно, приложение – это небольшая подборка уже не дословных, а поэтических переводов литургических текстов.
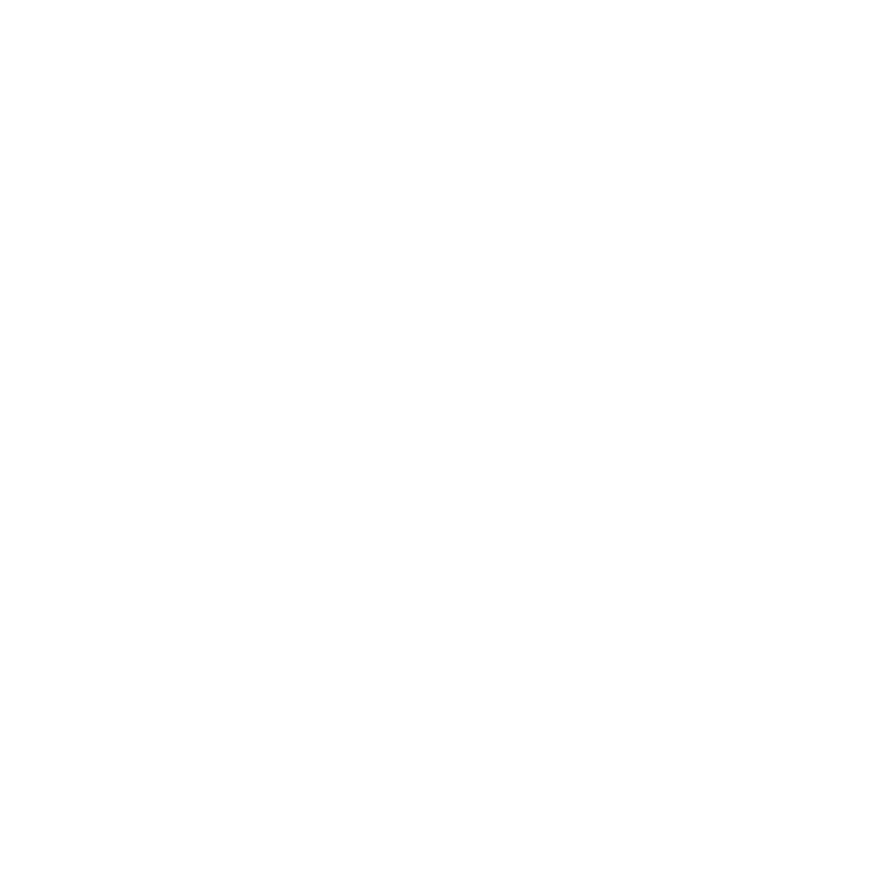
Мариины слезы. Комментарии к православному богослужению
Ольга Седакова, 2017 г., Благочестие
500
р.
Книга составлена из ряда комментариев к православным литургическим песнопениям. Каждый из этих комментариев — своего рода приглашение открыть смысловое пространство молитвенной традиции: цельность ее символики, ее «умную» образность, ее мозаичную природу, ее работу с временем и памятью, с порядком и звучанием слов в стихе. В своей сумме комментарии оказываются замечательным введением в общую поэтику гимнографии, хранящую «ясную память о некоторой большей цельности, о повышенной связности всего со всем».