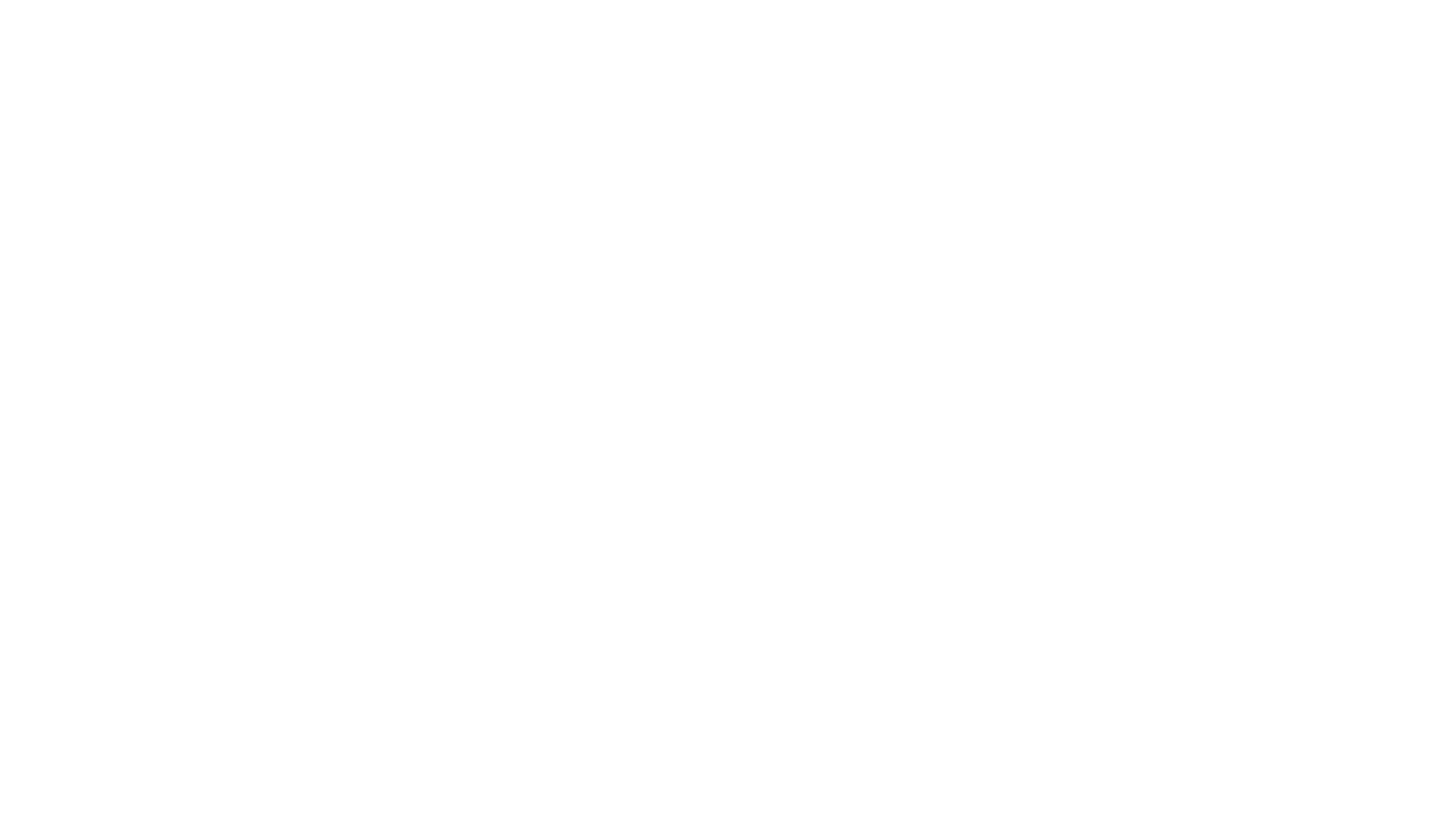НИКОЛАЙ ЭППЛЕ
О ПРИМУСЕ И НАДЕЖДЕ
О ПРИМУСЕ И НАДЕЖДЕ
Переводчик Льюиса и Честертона об одной из самых трудноопределимых христианских добродетелей
Фотография: Анна Гальперина
http://www.pravmir.ru/sila-v-slabosti/
http://www.pravmir.ru/sila-v-slabosti/
PV
Текст написан в декабре 2014 года и приурочен к 10-летию Культурного центра «Покровские ворота» и 9-летию книжного магазина «Primus Versus». Ранее публиковался только в социальных сетях.
«
Моя дружба с «Примусом» началась, кажется, еще до его рождения — с изобретения для него имени.
Сегодня 10 лет Культурному центру «Покровские ворота». Сейчас будет сентиментальное объяснение в любви с впадением в религиозную экзальтацию, слабонервным просьба удалиться.
Моя дружба с «Примусом» началась, кажется, еще до его рождения — с изобретения для него имени. Наш с Романом Кузьминым вариант был Urbi et orbi — про церковь и культуру с намеком на кафоличность. Идея про латынь в итоге осталась, но лучшим из вариантов был сочтен Primus Versus, в просторечии «Примус».
Моя дружба с «Примусом» началась, кажется, еще до его рождения — с изобретения для него имени. Наш с Романом Кузьминым вариант был Urbi et orbi — про церковь и культуру с намеком на кафоличность. Идея про латынь в итоге осталась, но лучшим из вариантов был сочтен Primus Versus, в просторечии «Примус».
До этого мы были знакомы уже лет пять. Как все живое, «Покровские ворота» существовали первоначально «не в бревнах, а в ребрах» — в виде круга сотрудников, единомышленников и друзей. Появление помещения стало стенами для этого уже сложившегося круга, который с тех пор уверенно, временами триумфально, ширился.
В Примусе проходят встречи, посвященные поэтам и писателям, ученым и музыкантам (он незаметно стал одним из центров исполнения средневековой и ренессансной музыки), поэтические чтения, лекции лучших историков, богословов и искусствоведов.
И это не в результате каких-то специальных менеджерских и маркетинговых усилий (вообще ненавязчивый менеджмент и макретинг — одна из самых удивительных особенностей этого места), а естественным образом, как растет дерево.
И это не в результате каких-то специальных менеджерских и маркетинговых усилий (вообще ненавязчивый менеджмент и макретинг — одна из самых удивительных особенностей этого места), а естественным образом, как растет дерево.
Два первых вечера, которые я тут организовал, были дружескими посиделками, вызванными желанием поделиться любимым. В первом случае мы смотрели и обсуждали «Волшебную флейту» в постановке Бергмана, во втором — «Страсти по Иоанну» Баха, которые я специально для этого вечера перевел на русский...
Я понял, что для меня «Примус», «Духовка»* или «Покровка» означает очень важное отношение: Церковь и культура. Высокие и красивые слова часто вызывают недоверие, потому что описывают излишне абстрактные, а то и просто эфемерные построения. Но в них нет ничего постыдного, если речь идет о конкретном, осязаемом, данном пишущему в ощущениях. Сейчас объясню, в чем именно дело.
Я понял, что для меня «Примус», «Духовка»* или «Покровка» означает очень важное отношение: Церковь и культура. Высокие и красивые слова часто вызывают недоверие, потому что описывают излишне абстрактные, а то и просто эфемерные построения. Но в них нет ничего постыдного, если речь идет о конкретном, осязаемом, данном пишущему в ощущениях. Сейчас объясню, в чем именно дело.
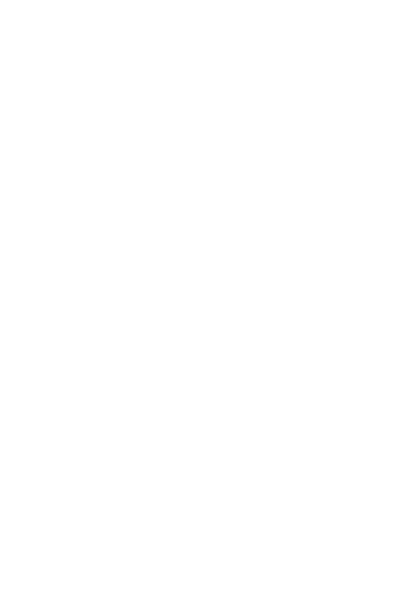
*«Духовная библиотека» — издательство, созданное в 1993 году будущим основателем Культурного центра «Покровские ворота» Жаном-Франсуа Тири.
Во-первых, люди, составившие «Покровку», — верные в том смысле, в котором описывается качество «практикующих» христиан, церковного собрания. Причем церковь не в конфессиональном смысле, а в первоначально-христианском, как собрание верных, пространство нравственно безотносительное, упование на Бога. Тут важно, конечно, что все составляющие это собрание — а среди них есть и католические иноки, и православные исповедники — твердо стоят каждый в своей традиции, и именно поэтому радостно открыты навстречу чужой.
А во-вторых, это «беспартийность», волевое нежелание участвовать в разделяющих спорах. Такая беспартийность, как мы хорошо узнали в последние годы, может быть маской, ничуть не мешающей держаться генеральной линии, и не считать сторонников иных партий собратьями по человечеству. А вот «содружество Духовки», ни в коей мере не исповедуя духовно-нравственного релятивизма, будучи даже вполне догматичным в самых существенных основаниях своей веры и жизни, несет с собой «просто христианство» и без видимого усилия, просто своей жизнью, утверждает Августиново правило сосуществования неподобных: «в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь».
Успех «Покровских ворот» устроен так же, как успех «Просто христианства» Льюиса.
То, что одно из важнейших для меня христианских собраний интерконфессионально, — в моем по крайней мере случае совершенно не случайно. Особенно ясно я понимаю это, оглядываясь сейчас на прошедшие годы. Успех «Покровских ворот» (а сохранение этого пространства как пространства живого и неповерхностного общения — это, безусловно, успех) устроен так же, как успех «Просто христианства» Льюиса. Ведь эта книга оказалась одним из важнейших христианских сочинений XX века для всего мира и в России привела к вере миллионы людей благодаря тому, что в трудные времена учила сосредотачиваться на самом существенном, не просто отсеивая второстепенное, а уча солидарности поверх второстепенного.

Из трех богословских добродетелей самая трудноопределимая — надежда.
С верой и любовью все более-менее понятно, они опираются на Бога, вера и любовь «приходят сами», говорит Шарль Пеги. «Это вера легка, а не верить невозможно. Это любовь легка, а не любить невозможно. Но надеяться трудно». Надежда в большей степени обращена на мир и человека. И искусство надежды — в каком-то смысле самое трудное, потому что работает не вопреки, а благодаря опыту. Вера, по слову апостола, — уверенность в вещах невидимых, а надежда — умение не отчаяться, исходя из видимого. Верить можно, уповая на Бога, надеяться же — на людей. И вот в такой надежде мне помогает существование «Покровских ворот» и людей, с этим местом связанных.
»