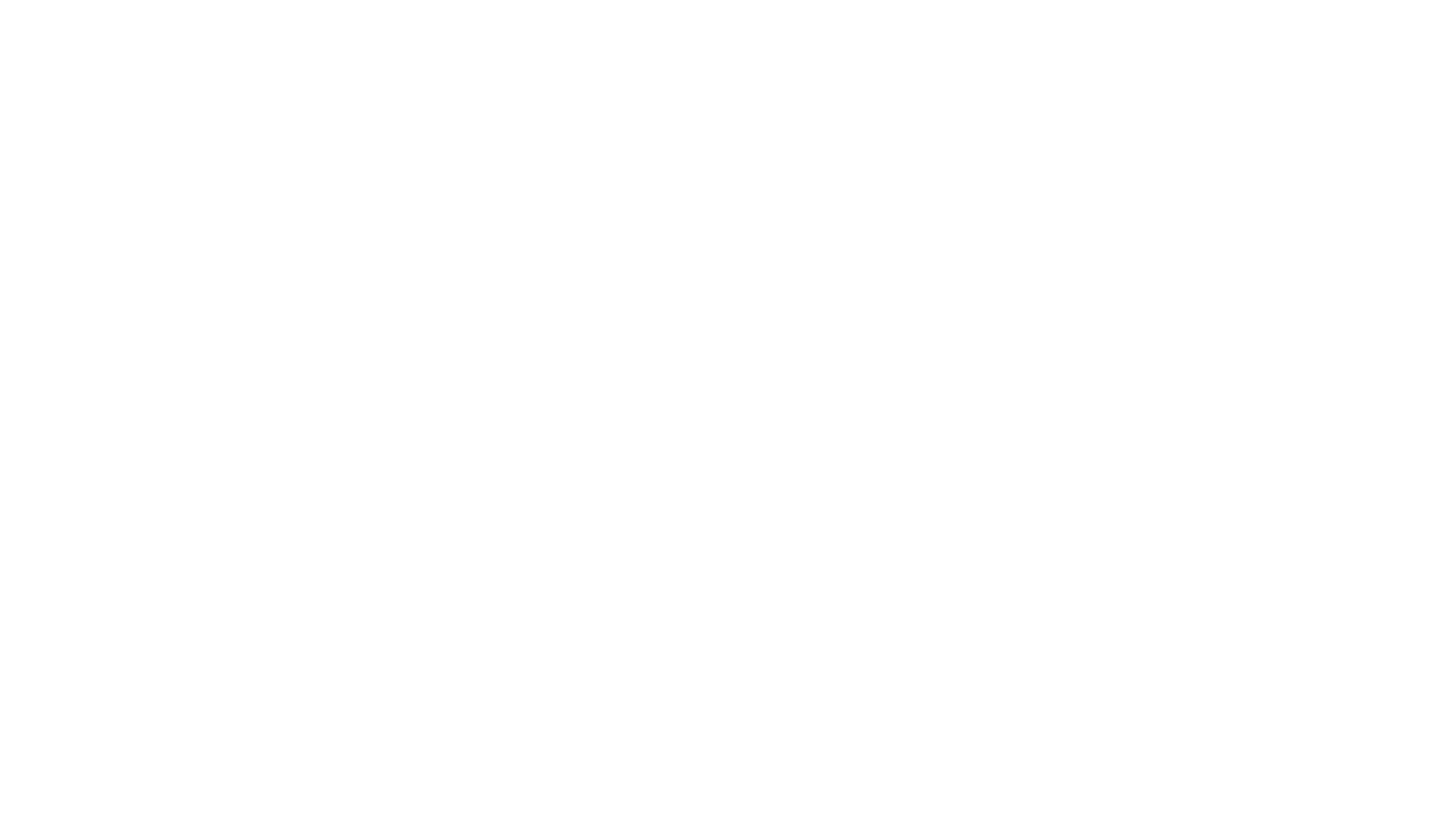Отрывок из книги
«Суеверие развода»
Гилберта Кийта Честертона
Отрывок из книги
«Суеверие развода»
Гилберта Кийта Честертона
Гилберта Кийта Честертона
PV
Впервые на русском языке издан сборник статей знаменитого христианского мыслителя Гилберта Кийта Честертона (1874−1936), посвященный актуальной в Англии его времени проблеме развода и осмысления ее с христианской точки зрения. С разрешения издателей публикуем первую главу.
28 сентября 2017 года состоялась презентация сборника, видео доступно для просмотра.
28 сентября 2017 года состоялась презентация сборника, видео доступно для просмотра.
«
Г.К.Ч.
I
Суеверие развода (1)
I
Суеверие развода (1)
Бесполезно говорить о реформе, не упомянув о форме. Приведу пример на свой собственный вкус: для меня нет ничего прекраснее и удивительнее окон. Окна волшебны независимо от того, выходят они на морские просторы или в палисадник. Окна причастны великой тайне и парадоксу свободы и ограничения. Но если я, повинуясь своим пристрастиям, стану неограниченно увеличивать число окон, то в конце концов стен не останется вовсе. Более того, окон не останется тоже, ибо окно создает картину, служа ей обрамлением. Моя роковая ошибка имеет очень простое объяснение: я захотел, чтобы у меня было окно, но не подумал о том, хочу ли я, чтобы у меня был дом. В наше время можно услышать множество призывов к защите света и свободы, символами которых могут считаться окна.
Нам много говорят о просвещении, условности домашнего очага, свободе от брачных уз.
Нам много говорят о просвещении, условности домашнего очага, свободе от брачных уз. Многие совершенно не заинтересованные в этом лично люди, приводят казалось бы разумные доводы в пользу развода как способа обретения личной свободы. Но в своих рассуждениях и журналисты, и общество в целом попадают в ту же логическую ловушку, в которой бы мог оказаться и я: неограниченное увеличение числа окон грозит исчезновением стен. Эти люди ратуют за разводы, не задаваясь вопросом: хотят ли они брачного союза? Ведь чтобы развестись, необходимо сначала соблюсти определенные формальности, т. е. вступить в брак. И если мы не раскроем прежде суть самого первоначального действия, то уподобимся тем, кто взялся обсуждать стрижки для лысых или очки для слепых. Развестись — буквально означает расторгнуть брак. И бессмысленно пытаться отменить некое действие, не будучи уверенным, совершено ли оно.
Гилберт Кийт Честертон (англ. Gilbert Keith Chesterton; 29 мая 1874, Лондон, Англия — 14 июня 1936, Биконсфилд (англ.), Англия) — английский христианский мыслитель, журналист и писатель конца XIX — начала XX веков. Рыцарь-командор со звездой ватиканского ордена Святого Григория Великого (KC*SG).
Когда такие реформаторы призывают разрешить разводы в случае отсутствия супруга в течение трех лет (этот срок определен на основании законов, принятых после Первой мировой войны), они вряд ли могут логично объяснить, почему период отсутствия должен составлять именно три года, а не три месяца или три минуты.
В девяти случаях из десяти нет совета хуже, чем поддаться первому порыву. Особенно, если он дается в ситуации, когда человек сталкивается с определенной проблемой. Люди, принявшие сей совет, поступают уже не как люди, а как мыши, грызущие все, что попадается у них на пути. Человек подобно мыши может нанести вред всему, чего не понимает. Наткнувшись на препятствие, он рассматривает его как досадную помеху. Но эта помеха может оказаться колонной, которая держит свод над его головой. Он прикладывает недюжинные усилия, чтобы устранить препятствие, а в результате препятствие устраняет его, а заодно и многое другое, гораздо более важное, чем он сам. Подобный прагматизм, наверное, самое непрактичное, что можно представить себе в нашем крайне непрактичном мире. Люди зачастую резко возражают против неконструктивной критики. Но такая критика плоха не тем, что она неконструктивна, а тем, что она, по сути, вовсе не критика. Это разрушение без созидания, попытка разобрать по гаечкам сложную машину, не зная, для чего она предназначена. И если кто-то возьмется управлять смертельно опасной машиной, нажимая первые попавшиеся кнопки, то скоро познает все изъяны такой незадачливой философии. Точно так же масса современных мужчин и женщин, исключая немногих искренних и вдумчивых критиков, рассуждает и пишет о браке, уподобляясь армии мышей, грызущих все без разбора. Когда такие реформаторы призывают разрешить разводы в случае отсутствия супруга в течение трех лет (этот срок определен на основании законов, принятых после Первой мировой войны), они вряд ли могут логично объяснить, почему период отсутствия должен составлять именно три года, а не три месяца или три минуты. С таким же успехом некто мог бы потребовать у продавца три фута собаки, не представляя себе, как выглядит всё животное целиком, от носа до хвоста. В этом и заключается самое главное, что можно сказать о подобных реформаторах брака: они ничего в нем не смыслят. Не понимают, что такое брак, для чего он необходим, не понимают его сторонников. Они не присматривались к браку, даже состоя в нем. Зато они делают то, что первым приходит в голову: расковыривают дно лодки, будучи уверены, что копают землю в саду. А вопрос, с чем они имеют дело, с садом или лодкой, кажется им отвлеченным и надуманным. Они не осознают ни того, сколь велика идея, на которую они покушаются, ни того, сколь ничтожны дырки, которые они в ней проделывают.
Сэр Артур Конан Дойл, человек весьма разумный в других вопросах, утверждает, что против развода существуют только «теологические» аргументы, основанием которых служат всего лишь «некоторые места» из Библии.
Так, сэр Артур Конан Дойл, человек весьма разумный в других вопросах, утверждает, что против развода существуют только «теологические» аргументы, основанием которых служат всего лишь «некоторые места» из Библии. Это все равно, что утверждать, будто вера в братство людей основана лишь на Библии, согласно которой все люди — дети Адама и Евы. Миллионы сельских жителей и простых людей во всем мире воспринимают брак как нечто нерушимое, хотя книг и в глаза не видели. Значительное число более современных людей, особенно в США, воспринимают развод как общественный недуг, опять-таки не основываясь ни на каких литературных источниках. Совершенно ясно, что для всех них идея брака священна. То же справедливо и в отношении идеи всеобщего братства. Нет никаких сомнений, что по внешним признакам супружеская чета — не единое четвероногое существо. Столь же очевидно, что Падеревский и Джек Джонсон — не близнецы и вряд ли вместе играли на коленях своей матери. Но здесь нам следует сделать одно важное замечание. Верно следующее: если бы нонсенс, высказанный Ницше или другим подобным ему софистом, привел бы современную культуру к тому, что стало бы модным отрицать братский долг по отношению ко всем людям, то вполне возможно, людьми, все еще придерживающимися идеи братства, оказались бы как раз те, в чьих священных книгах говорится об Адаме и Еве. Допустим, некоему прусскому профессору посчастливилось сделать открытие, что немцы и «меньшие» народы имеют своими предками двух настолько разных обезьян, что их нельзя никак признать родными братьями и даже едва ли двоюродными. И вот этот профессор, уходя вглубь времен, отсекает, словно топором, ветвь за ветвью, повторяя поведение Каина, приговаривая уже не: «Разве я сторож брату своему?», а: «Разве он мне брат?». Представьте, что такая вот высокая философия топора стала преобладать в университетах и культурных кругах, как это уже случалось и с более глупыми идеями. В этой ситуации, вероятно, именно христианин — человек, хранящий повествование о Каине — будет по-прежнему считать себя братом и сторожем того профессора. Возможно, он даже скажет, что, по его мнению, сторож профессору совершенно необходим.
Несомненно, в наши дни ситуация со спорами о браке и разводе как раз такова. Именно христианская церковь продолжает оставаться на тех же позициях, каких придерживались многие люди в прежние времена, тогда как весь остальной мир почему-то отступает от них. Но и в этом случае ссылаться исключительно на тексты будет означать хождение по верхам. И вот ключевой момент нашего сравнения: идея человеческого братства предполагает целостный взгляд на мир. Это значит, что мы будем отстаивать его, верен он или нет, при обращении к любой области человеческой жизни. Религия, наиболее строго придерживающаяся этого, будет таковой и тогда, когда останется одинока в своих убеждениях. Точно так же, как всегда найдутся среди нас упрямые люди, готовые считать это аргументом в поддержку той религии. Но любой сторонник такого взгляда придерживается его как философии, основанной не на одной цитате, а на сотнях истин. Быть может, братство — сентиментальная метафора, и я обманываюсь, приветствуя черногорского крестьянина как своего давно пропавшего брата. На самом же деле, у меня есть определенные подозрения на предмет того, кто из нас потерялся. Но заблуждаюсь я не потому, что прочитал какой-то там отрывок или даже целых двадцать: моя иллюзия отражает наличие связи, которая мне по крайней мере видится реальной. И у меня есть не только концепция брата, но и схожая с ней концепция жены.
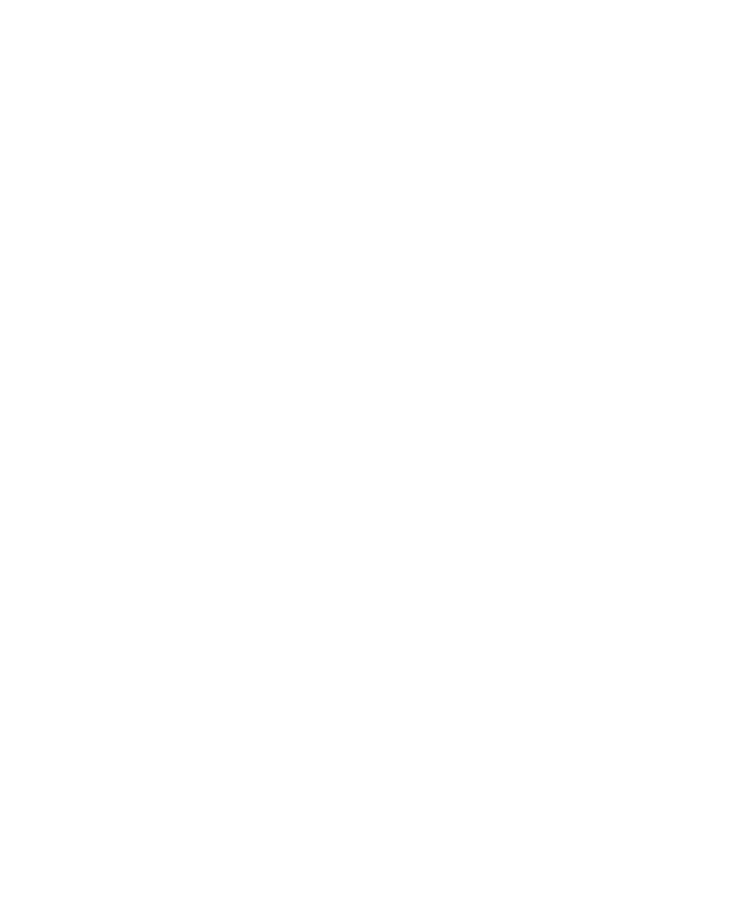
Танцевать от печки некоторые считают непрактичным. Они называют это «абстрактным и академическим принципом», не принятым у деловых людей. Странно, но почему-то считается непродуктивным начинать исследование какого-либо предмета с вопроса: «А что это, собственно, такое?» У меня же подобное отношение вызывает лишь презрение, поскольку я убежден, что именно такой подход не является практичным. В моем представлении деловой человек вовсе не тот, кто выкладывает на стол пятьдесят фунтов и говорит: «Вот деньги. Я простой человек, и мне абсолютно не важно, куда они пойдут — на уплату долга, милостыню, покупку дикого быка или устройство пляжных кабинок». Несмотря на подкупающую искренность его тона, я все же погляжу на деньги и спрошу: «Что это?» И я настаиваю, что деловой человек должен знать, что это за деньги, на что они выделены, как будут израсходованы и в чем суть денежной операции. Проще говоря, что, черт возьми, задумал этот человек? Точно также я могу вопросить: «Что, ради всех святых, думает о своих действиях мужчина, собирающийся жениться?» Для начала, я поинтересовался бы, что такое брак. И ответ, на этот вопрос возможно откроет нам, что решение жениться, будь оно хорошим или плохим, мудрым или глупым, принято вполне осмысленно, не случайно и не ради какого-то эксперимента. И тут нас, возможно, осенит, что речь идет об обещании, а говоря более определенно — об обете.
Многие тут же возразят, что это опрометчивый обет. Мне же на это достаточно ответить, что все обеты опрометчивы. Сейчас моя задача — не выступать в защиту обетов, а дать им определение. И я подчеркиваю, что речь мы ведем именно об обетах. Во-первых, должны ли мы давать обеты, и во-вторых, какими они должны быть? Пристало ли человеку нарушать обещание? Пристало ли ему это обещание давать? Вопросы — чисто философские. Но философская особенность развода с последующим заключением нового брака в сравнении со свободной любовью вне брака заключается в том, что в первом случае человек обещание нарушает и одновременно его дает. Вполне в духе той самой высокой немецкой философии, и напоминает ситуацию, когда враг отмечает нарушение всех своих прошлых обязательств посредством подписаниях новых. Если бы я взялся нарушить обещание, я бы сделал это, не давая обещаний. Не стану преуменьшать чрезвычайно важную, но и спорную природу обета как такового. Далее я попытаюсь показать, что этот опрометчивый и романтичный поступок становится единственным горнилом, в котором выплавляется внутренний стержень человечества, несокрушимая крепость гражданской позиции, холодная сталь здравомыслия. Не стану отрицать, что в этом горниле — жаркий огонь. Обет — дерзновенная и уникальная вещь. Замечу, что, кроме брачных обетов, имеются и другие: рыцарства, нестяжания, безбрачия — как у христиан, так и у язычников. Однако они вышли из моды, и люди не прибегают к ним, не видя перед собой соответствующих примеров. Самый легкий способ поставить человека в тупик — спросить, включает ли понятие свободы свободу самоограничения. Ибо дать обет — это назначить встречу с самим собой.
Если я провозглашу, что брак есть дело чести, меня, возможно, не поймут. Скептики с радостью согласятся и скажут, что это борьба. И это правда, но только — борьба с самим собой. В чем-то она, несомненно, героическая, поскольку слово «добродетель» (virtue) следует возводить здесь к латинскому virtus . А если говорить об особенностях этой борьбы, то она бесконечна или как минимум потенциально бесконечна. Я имею в виду, что быть верным на войне означает быть верным и в поражении, и в позоре, быть верным знамени и тогда, когда оно вот-вот будет повержено. А раз мы уже упомянули национальный флаг, то спросим: будет ли разумным отнести все это к знамени семьи? Конечно, можно заявить, что вышесказанное не относится ни к тому, ни к другому, и что пороки власти и бедствия подданных превращают дезертирство из предательского поступка в разумный. Но здесь я лишь скажу, что если бы именно этим определялся предел верности своей стране, некоторые из нас уже давно бы ее покинули.
»
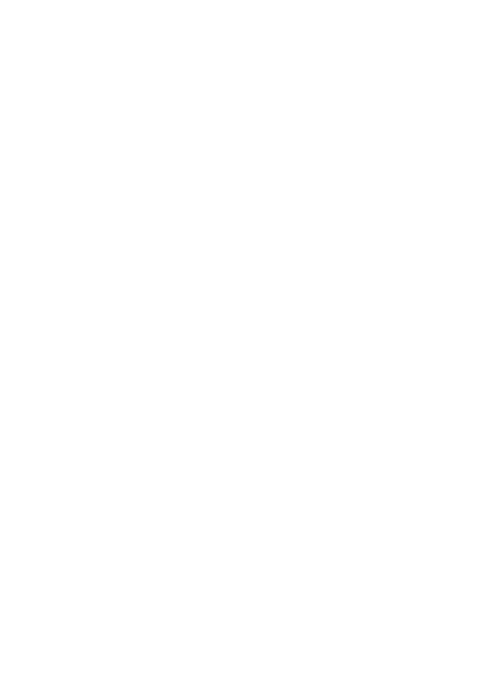
Суеверие развода
Гилберт Кит Честертон, 2017 г., Артос
Впервые на русском языке выходит в свет сборник статей знаменитого христианского мыслителя Гилберта Кийта Честертона (1874-1936), посвященный актуальной в Англии его времени проблеме развода и осмысления ее с христианской точки зрения.
Честертон — один из тех писателей ХХ века, творчество которого вошло не только в классическое наследие европейской литературы, но и на многие годы стало образцом христианской апологетики, одновременно сосредоточенно-серьезной и по-дестки легкой и изобретательной. «Защитником веры» назвали его после кончины. Психологически убедительно и художествено достоверно он делится своим опытом: как быть христианином в мире, отрицающем христианство.
Честертон — один из тех писателей ХХ века, творчество которого вошло не только в классическое наследие европейской литературы, но и на многие годы стало образцом христианской апологетики, одновременно сосредоточенно-серьезной и по-дестки легкой и изобретательной. «Защитником веры» назвали его после кончины. Психологически убедительно и художествено достоверно он делится своим опытом: как быть христианином в мире, отрицающем христианство.